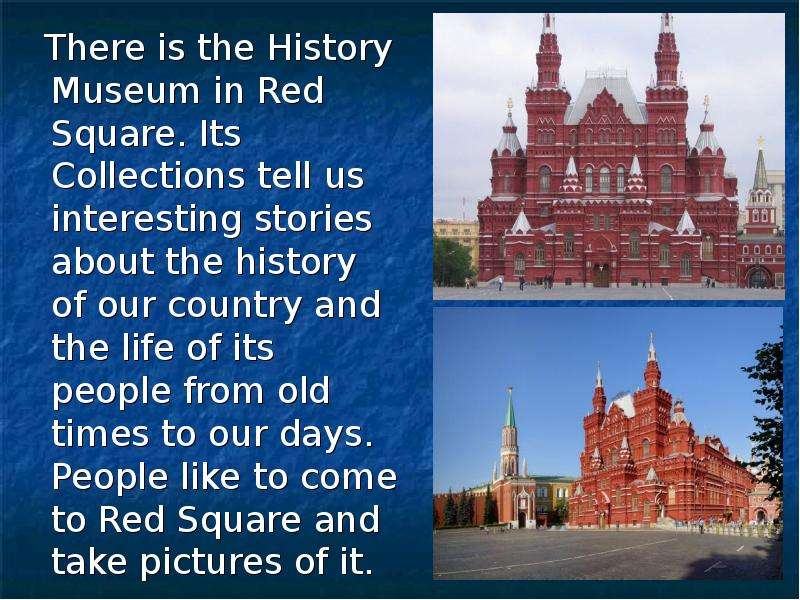Содержание
Когда «культурная революция» уже кончилась, а капитализм еще не возник
Книги
Ван Гуанъи. «Красная рациональность». 1988.
Фото: Academic Studies Press
№111
Материал из газеты
Британец Пол Гладстон попытался понять, из чего выросло сегодняшнее китайское искусство и кем были герои недавнего «авангарда». Интервью с участниками художественного процесса 1979–1989 годов легли в основу его книги
Ольга Распопова
19.05.2023
После ярких мемуаров Ай Вэйвэя «1000 лет радостей и печалей» вышла еще одна интересная книга об искусстве Поднебесной: британец Пол Гладстон посвятил свое исследование «Китайский „авангард“ 1979–1989 годов» художественным коллективам КНР. Хронологические рамки не зря заданы так жестко. Эти десять лет, что последовали сразу за «культурной революцией», буквально в обломки превратившей древнее наследие страны, но еще до закручивания гаек после трагических событий на площади Тяньаньмэнь, стали своеобразной оттепелью для Китая.
Пол Гладстон. «Китайский «авангард» 1979–1989 годов» / Пер. с англ. К. Батыгина. СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика, 2023. 256 с., ил. (Серия «Современное востоковедение»).
Почти все содержание книги призвано оправдать ее заглавие, что отчасти теряется в переводе: слово «авангард» в российской версии взято в кавычки лишь на обложке, а не по всему тексту, как это сделано в английском оригинале (редакторы объясняют, что в русском варианте решили отказаться от кавычек, чтобы не перегружать текст). А мысль автора — в том, что китайский «авангард» — это совсем не авангард, как он понимается на Западе, а его подобие, к которому крайне сложно подобрать термин. И правильнее этот феномен, конечно, называть «цяньвэй», что прямая калька с французского avant-garde, то есть «передовой отряд». Но тут как с «китайским Новым годом»: проще, не засоряя мозг читателя, перевести феномен в понятные координаты, чем говорить про «Фестиваль весны» (и уж тем более «Чуньцзе»).
Хотя даже и без кавычек из повествования становится ясно, что понятие авангарда у автора условное, а не классическое. Если совсем упрощать, то китайские «авангардисты» просто стремились делать то, что им хочется, не взаимодействуя с политикой. По сути, это была попытка в существующих условиях выйти за рамки государственного искусства. Авангардизм заключался в том, что художники пробовали обнаружить новые ориентиры посреди Китая, переживающего трансформацию — переход от общества, строящего социализм, к модели капиталистической.
Автор начинает книгу с развернутого введения, где рассуждает о том, как китайцы в принципе осмысляли себя и свое искусство по сравнению с европейским, которое в свете тяжелых поражений от колониальных держав воспринималось как более передовое. Но и совершенно другое.
Цюй Лэйлэй. «Танец». 1979.
Фото: Academic Studies Press
Деятельность и настроения групп рассмотрены в книге на фоне политических событий. ХХ век для Китая в целом период жесткой и ускоренной вестернизации, расколовшей страну. Если говорить об искусстве, то во времена правления Мао господствовал соцреализм, заданный после программной речи Великого Кормчего в Яньане, когда было провозглашено: искусство не может быть оторвано или независимо от политики, оно должно отражать взгляды народных масс. При этом с 1949 по 1966 год было создано множество произведений, внешне соответствовавших директивам КПК, но содержавших зашифрованную критику в адрес режима.
ХХ век для Китая в целом период жесткой и ускоренной вестернизации, расколовшей страну. Если говорить об искусстве, то во времена правления Мао господствовал соцреализм, заданный после программной речи Великого Кормчего в Яньане, когда было провозглашено: искусство не может быть оторвано или независимо от политики, оно должно отражать взгляды народных масс. При этом с 1949 по 1966 год было создано множество произведений, внешне соответствовавших директивам КПК, но содержавших зашифрованную критику в адрес режима.
Период после Мао, 1976–1989 годы, запомнился политической неопределенностью: жестких рамок нет, но страх прошлого заставлял художников заниматься самоцензурой. При этом 1980-е ознаменовались оптимизмом в искусстве — благодаря новой политике КНР, перестройке в СССР, визиту Горбачева. Далее — циничный реализм 1990-х, депрессия после Тяньаньмэнь и в связи с новыми рыночными отношениями.
Но сердце книги — не историческая канва, а беседы автора с художниками.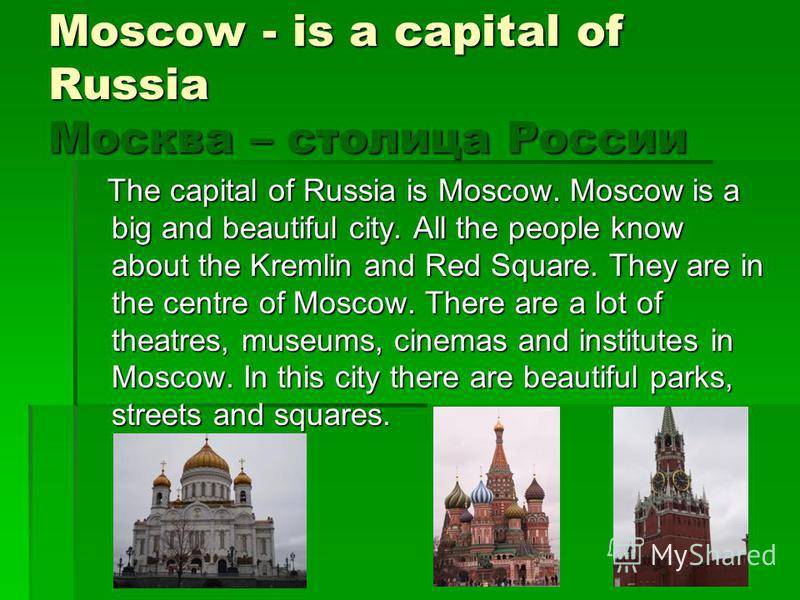 Гладстон при этом сетует, что его герои не всегда точно воссоздают события минувшего, и предупреждает читателя, что их рассказы, скорее, «реконструкция воспоминаний, осознанная или неосознанная попытка переосмыслить значимость прошлого». Хотя странно было рассчитывать, что сегодня, в условиях жесткой цензуры в Поднебесной, ему рассказали бы «правду», несмотря на то что большинство его героев покинули КНР.
Гладстон при этом сетует, что его герои не всегда точно воссоздают события минувшего, и предупреждает читателя, что их рассказы, скорее, «реконструкция воспоминаний, осознанная или неосознанная попытка переосмыслить значимость прошлого». Хотя странно было рассчитывать, что сегодня, в условиях жесткой цензуры в Поднебесной, ему рассказали бы «правду», несмотря на то что большинство его героев покинули КНР.
Гладстон пытается казаться максимально бесстрастным и спрашивает самих художников, как они пришли к своим объединениям и творческим решениям. При этом он вдруг резко высказывается о китайской арт-святыне — «Отце» (1979) Ло Чжунли, шокируя собеседника. «Для меня это настолько шаблонное и скучное произведение, что оно вообще никак меня не затрагивает», — говорит британец. Между тем по влиянию на китайскую культуру это полотно сравнимо, например, с нашими «Девочкой с персиками» или «Грачи прилетели»: оно прекрасно узнаваемо в народе и тиражируется на сувенирной продукции.
Чжан Пэйли. «Порыв ветра». 2008. Многоканальное видео и инсталляция.
Фото: Academic Studies Press
Примечательно, что сами художники очень спокойно относятся к своей деятельности, без особой гордости, не ставя ее в оппозицию к чему-либо, в том числе к государству. Это люди, максимально чувствующие землю под ногами — и тут велика заслуга китайского менталитета, воспринимающего искусство как ремесло. Явственно желание найти новые формы, но при этом и очевидна боязнь «раскачивать лодку». Одна из участниц движения «Пруд» говорит: «Мы не стремились к влиянию. У нас не было такой задачи. Мы просто веселились. Играли в го, пили чай, смотрели кино».
«Сямэньские дадаисты» признаются, что название «дадаисты» выбрали случайно и что они не соотносят себя с западными коллегами. «Мне кажется, что мы творили для собственного удовольствия, — поясняет один из них. — Дадаизм — как камень, который был выброшен где-то и который кто-то случайно подобрал.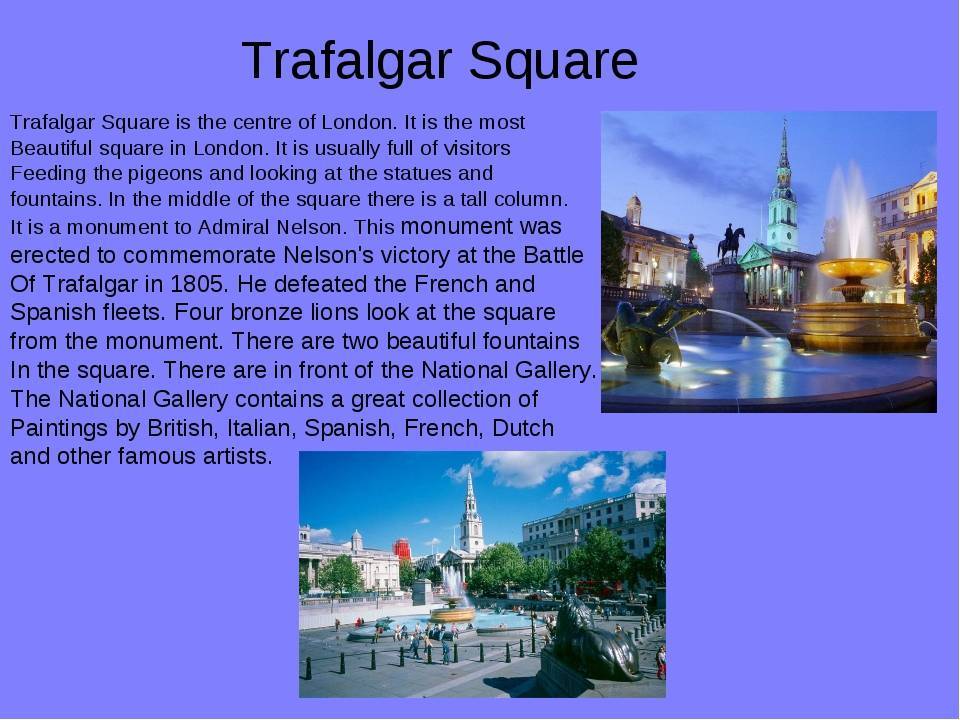 Камень с течением времени не развалится на части и может быть использован в любой момент. Каждое новое поколение берет этот камень, чтобы нарушить молчание и по-новому интерпретировать окружающий мир».
Камень с течением времени не развалится на части и может быть использован в любой момент. Каждое новое поколение берет этот камень, чтобы нарушить молчание и по-новому интерпретировать окружающий мир».
А объединение «Звезды» в свое время устроило что-то вроде Бульдозерной выставки. Их, выходцев из приличных интеллигентных семей, не приняли в хунвейбины (причем из стенограмм непонятно, сожалеют они об этом или нет). Так что им приходилось самовыражаться по-другому.
Глубокого анализа отдельных произведений или художественных течений в книге нет. Но и сам автор такой задачи перед собой не ставит: материал довольно зыбкий. Кому-то книга покажется стенограммой интервью на YouTube — с каверзными вопросами и уточнениями. Наверное, аудиоверсия книги от этого только выиграет. Да и начинать читать можно с любой главы — как смотреть видеоролик.
Подписаться на новости
Борис Орлов и Салават Щербаков возмущены реконструкцией Южного речного вокзала
Памятник советского модернизма 1980-х годов, открытый в Москве после реконструкции, несмотря на заявления властей о «воссоздании», оказался далек от оригинала, говорят его создатели — скульпторы Салават Щербаков и Борис Орлов
12.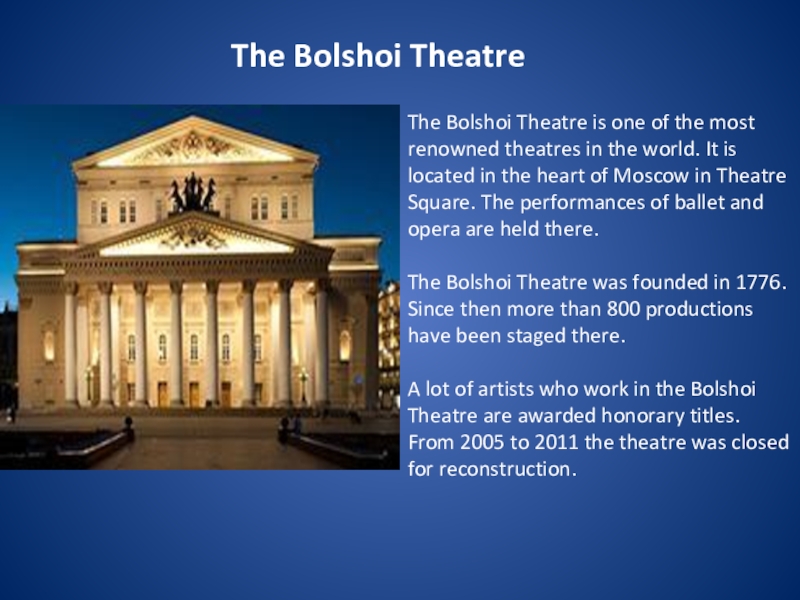 05.2023
05.2023
Рейтинг посещаемости российских музеев за 2022 год: топ-50
Мы публикуем рейтинги посещаемости российских музеев ежегодно начиная с 2013-го и воспринимаем их как статистическое отражение реальной ситуации в музейной сфере. Для наших музеев 2022 год оказался не худшим
04.05.2023
Выдача «Троицы» Рублева на праздник 4 июня может быть отложена
Представитель РПЦ допустил возможность отсрочки перемещения иконы до того момента, как будет создана защитная капсула, при этом за последние месяцы количество проблемных участков на иконе увеличилось до 71
24.05.2023
Рейтинг посещаемости российских художественных выставок за 2022 год: топ-50
Топ-50 самых популярных российских выставок за 2022 год составлен на основании опроса, проведенного нашей редакцией. Во внимание принимались только художественные выставки или те, что содержали художественную составляющую
04.05.2023
«Троица» Андрея Рублева и рака Александра Невского переданы РПЦ
Президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о возвращении РПЦ иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым.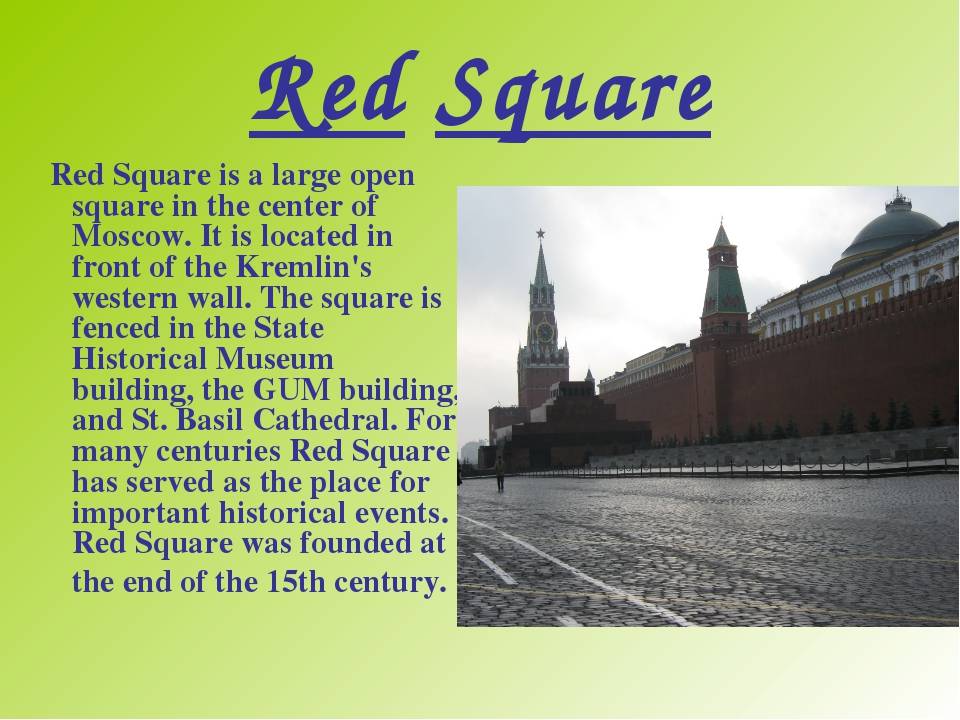 Накануне Государственный Эрмитаж дал согласие соединить раку, гробницу и мощи святого на территории Александро-Невской лавры
Накануне Государственный Эрмитаж дал согласие соединить раку, гробницу и мощи святого на территории Александро-Невской лавры
15.05.2023
Загадка «невозможной» древнеегипетской скульптуры, похоже, решена
Маргарет Мейтленд, исследовательница древней культуры долины Нила, обнаружила прямую связь музейной статуи с жителями целой деревни мастеров, специализировавшихся на создании гробниц для правителей страны
23.05.2023
Музейный рейтинг, обратная связь: ни к старому, ни к новому, а к приемлемому
Приоритеты, тренды, активности и другие перспективные формы работы отечественных музеев — в нашем обзоре
04.05.2023
10 самых таинственных достопримечательностей России
25 мая 2020
10:44
Wikimedia Commons
Китайский портал Sohu в разделе, посвященном туризму, назвал самые загадочные и мистические достопримечательности России. Это места, с которыми связаны легенды, их окружает ореол мистики и таинственности. Ниже мы расскажем о 10 самых загадочных местах России.
Это места, с которыми связаны легенды, их окружает ореол мистики и таинственности. Ниже мы расскажем о 10 самых загадочных местах России.
Китайский портал Sohu в разделе, посвященном туризму, назвал самые загадочные и мистические достопримечательности России. Это места, с которыми связаны легенды, их окружает ореол мистики и таинственности.
Ниже мы расскажем о 10 самых загадочных местах России.
Саамские лабиринты, Карелия
Каменные лабиринты в Карелии считаются одним из самых загадочных мест России. Никто не может точно сказать, с какой целью были построены эти лабиринты. Есть версия, что это делалось с погребальной целью. Кто-то полагает, что это ритуальные лабиринты, использовавшиеся шаманами для связи с духами. Есть также и версия о том, что эти сооружения служили для ловли рыбы, так как раньше уровень моря был выше, чем сегодня.
Китовая аллея, остров Ытыгран
Китовая аллея – комплекс, представляющий собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей и черепов гренландских китов.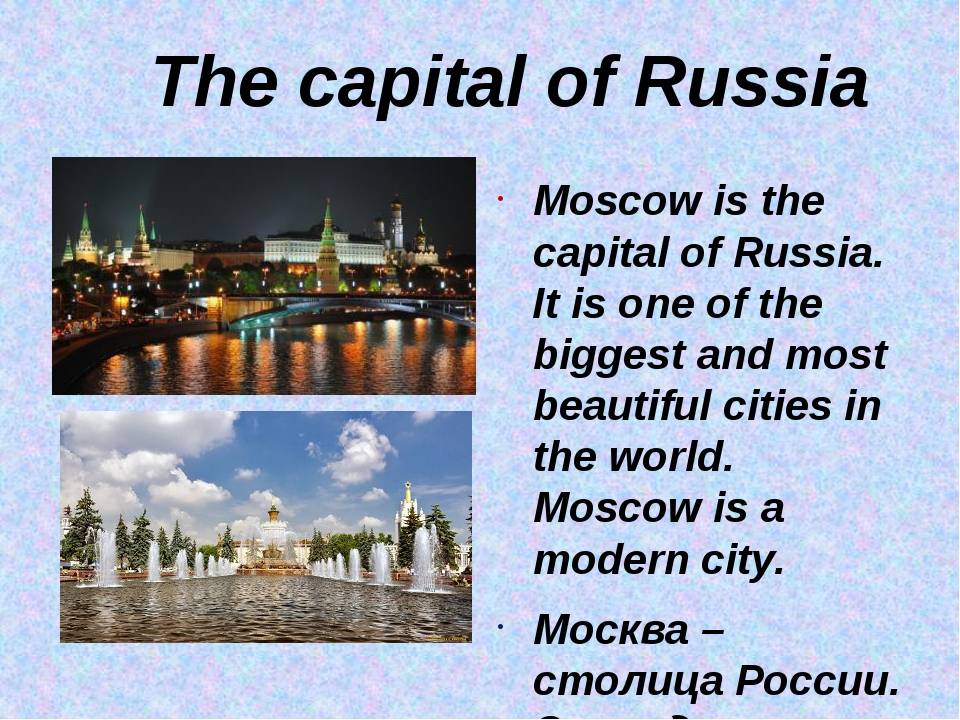 Аллея датируется XIV-XVI вв. н. э. и относится к позднему периоду древнеэскимосской культуры пунук. Считается, что эта аллея была сооружена в погребальных целях.
Аллея датируется XIV-XVI вв. н. э. и относится к позднему периоду древнеэскимосской культуры пунук. Считается, что эта аллея была сооружена в погребальных целях.
Кашкулакская пещера, Хакасия
Кашкулакская пещера — карстовая пещера на территории России в массиве горы Кошкулак, расположенной в северных отрогах Кузнецкого Алатау. Эта пещера глубиной 49 метров имеет три яруса, соединенных вертикальными колодцами глубиной около 20 метров.
Привходовая часть пещеры в течение последних двух тысяч лет использовалась как культовое место шаманами. Пол пещеры завален костями жертвенных животных, втоптанными в глину, углем от жертвенных костров. Стены покрыты окаменевшей копотью. Основным местом для жертвоприношений служил Храмовый грот и располагающийся там сталагмит.
В настоящий момент существует несколько туристических фирм, организующих экскурсии в Кашкулакскую пещеру (как правило, только по верхнему ярусу). Пещеру также посещает большое число самостоятельных групп спелеотуристов.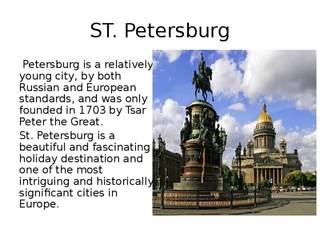
Телецкое озеро, Алтай
Телецкое озеро входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». Один из центров туризма и отдыха Алтая. Телецкое озеро — одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Отдыхающих принимают 18 турбаз и кемпингов.
Васюганские болота, Западная Сибирь
Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире, расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша. Васюганские болота возникли около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются — 75% их современной площади заболочено за последние 500 лет.
В народном фольклоре болота связаны с обитанием нечистой силы.
Гора Холатчахль, Урал
Гора Холатчахль — гора на Северном Урале, на границе Республики Коми и Свердловской области, высотой 1096,7 метра над уровнем моря.
Один из вариантов перевода названия горы – «Гора мертвецов». Этот вариант перевода распространился, после того как в 1959 году в окрестностях горы при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Между Холатчахль и соседней к востоку безымянной высотой находится названный в память об этом происшествии перевал Дятлова. В современных работах по топонимике Северного Урала название Холатчахль связывается с мансийскими легендами о всемирном потопе и гибели людей на горе в далеком прошлом.
Между Холатчахль и соседней к востоку безымянной высотой находится названный в память об этом происшествии перевал Дятлова. В современных работах по топонимике Северного Урала название Холатчахль связывается с мансийскими легендами о всемирном потопе и гибели людей на горе в далеком прошлом.
Озеро Плещеево, Переславль-Залесский
Плещеево озеро — пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России. Возраст Плещеева озера составляет около 30 тысяч лет. Оно образовалось после отступления континентальных ледников. Древний водоем был гораздо крупнее нынешнего. Его прежние границы заметны как возвышенная кайма на восточной и южной сторонах озера.
На берегу озера расположен целый ряд памятников и достопримечательностей, среди которых археологический памятник «Клещинский комплекс».
Озеро Светлояр, Нижегородская область
Светлояр — озеро, с которым связана легенда о затонувшем городе Китеже. Озеро расположено на территории природного парка Воскресенское Поветлужье. В разное время высказывались гипотезы о ледниковом, карстовом, старичном, вулканическом, неотектоническом, солянокупольном и космическом — метеоритном происхождении озера.
В разное время высказывались гипотезы о ледниковом, карстовом, старичном, вулканическом, неотектоническом, солянокупольном и космическом — метеоритном происхождении озера.
Аркаим, Челябинская область
Аркаим — укрепленное поселение эпохи средней бронзы, относящееся к так называемой «Стране городов». Поселение и прилегающая к нему территория с целым комплексом разновременных памятников археологии являются природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником. Памятник отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью исторического ландшафта.
Аркаим популярен в эзотерике и мистических учениях, его называют «местом силы», что однако оспаривается учеными.
Патриаршие пруды, Москва
Патриаршие пруды — общее название местности, расположенной в Пресненском районе Москвы. Патриаршие пруды неоднократно упоминались в литературе. В частности, топоним упоминается в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В парке установлен знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами», отсылающий к первой главе «Мастера и Маргариты».
В парке установлен знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами», отсылающий к первой главе «Мастера и Маргариты».
экономика
новости
«История одной жизни» Константина Паустовского в переводе с русского Дугласа Смита
Книги
600252411
ЖУРНАЛ: Этот новый перевод повторно знакомит английских читателей с первыми тремя томами этой эпической русской работы. От душераздирающих сцен войны до выходок школьников книга очень трогательна.
Эрик Вандерволл
Специально для Star Tribune
17 февраля 2023 г. — 7:45
Сохранить
Нажмите на закладку, чтобы сохранить эту статью.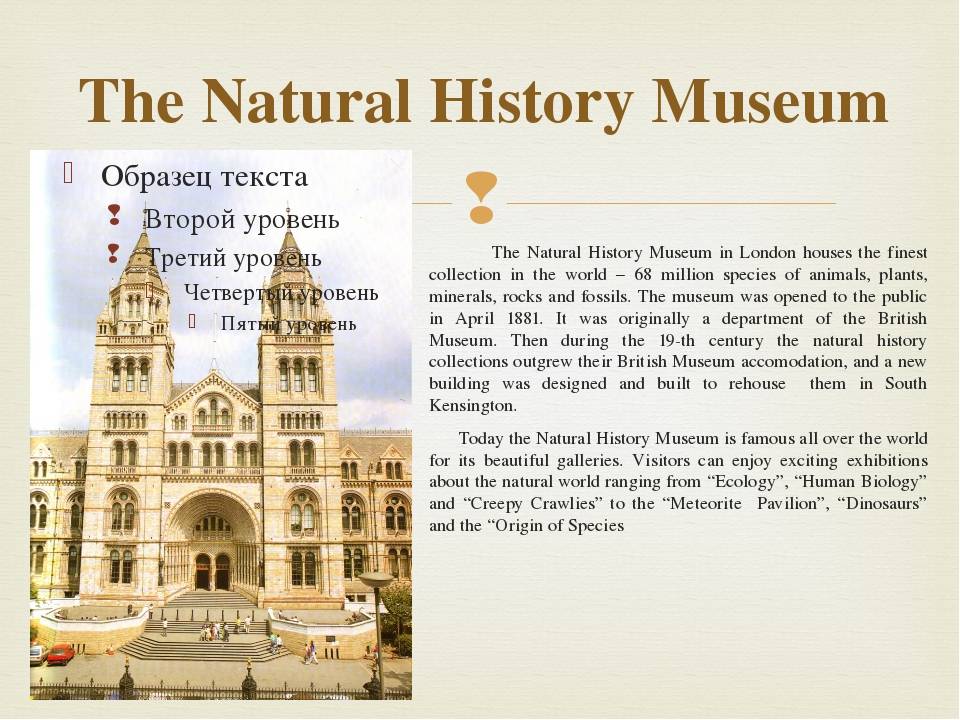
Посмотреть сохраненные статьи
Подарите эту статью
Отправьте эту статью кому угодно, для ее просмотра подписка не требуется
Размер текста
Доля Артикул
- Электронная почта
- Фейсбук
- Твиттер
LinkedIn
Константин Паустовский назвал свой шеститомный автобиографический труд «Повесть одной жизни», и это была настоящая жизнь. Он служил санитаром во время Первой мировой войны, подрабатывал разными случайными заработками (в том числе кондуктором трамвая, инспектором боеприпасов и помощником рыбака), сообщал о русской революции, работал военным корреспондентом во время Второй мировой войны и был номинирован на Нобелевскую премию за Литература в 1965.
Он служил санитаром во время Первой мировой войны, подрабатывал разными случайными заработками (в том числе кондуктором трамвая, инспектором боеприпасов и помощником рыбака), сообщал о русской революции, работал военным корреспондентом во время Второй мировой войны и был номинирован на Нобелевскую премию за Литература в 1965.
Новый перевод Дугласа Смита делает первые три из шести томов «Истории одной жизни» доступными на английском языке впервые за несколько десятилетий. Использование слова «история» имеет решающее значение; это произведение литературы, а не истории. Как пишет Смит во введении, «работа движется вперед не столько по велениям хронологии, сколько благодаря силе памяти».
Особенно это касается первого тома «Далекие годы», в котором главы функционируют почти как самостоятельные истории. Паустовский вызывает мечтательность своего книжного отрочества, а затем шутки и печали школьных лет. Лирические, медитативные пассажи резко противопоставляются личным трагедиям, в том числе мощной и сдержанной главе «Смерть моего отца», открывающей книгу.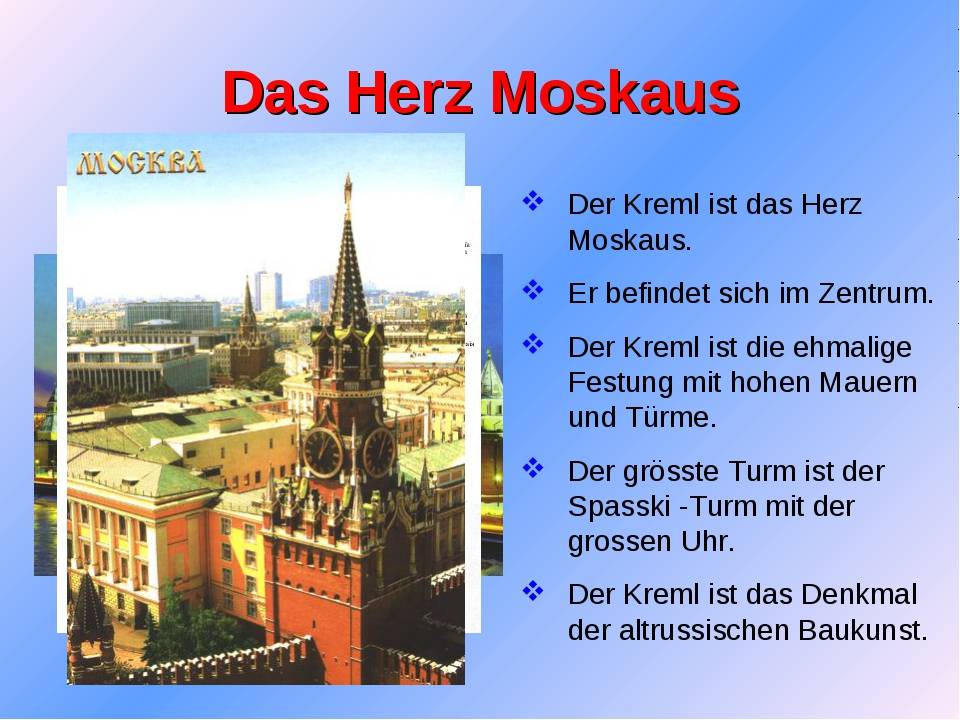 Важные исторические события, такие как провал 1905 революция — развернуться на периферии: «Самодержавная Россия расползлась, как кусок гнилого старого сукна».
Важные исторические события, такие как провал 1905 революция — развернуться на периферии: «Самодержавная Россия расползлась, как кусок гнилого старого сукна».
Второй том, «Беспокойная юность», начинается в 1914 году, когда Россия только что вступила в Первую мировую войну. Это было время, когда «жизнь стала неузнаваемой» и все, «что казалось привычным и постоянным, исчезло в одно мгновение». Это более жестокий том, в котором Паустовский находится на Восточном фронте, наблюдая резню войны и хаотический крах вооруженных сил. Посреди этого Паустовский, всегда поэт, отмечает «низко висящее оловянное небо» или вид «надменных аистов» в их гнездах. В последней главе тома «Сырой февраль» Паустовский описывает 1917 революция, положившая конец царскому правлению. «Россия обрела голос и заговорила», — пишет он о своем оптимизме в те первые дни.
«Заря неопределенного века» начинается здесь и заканчивается за несколько мгновений до взятия Красной Армией Одессы в феврале 1920 года. Как и его друг и современник Исаак Бабель, Паустовский слагает поэзию войны: «Пули пели своими собственными нотами — одни слегка свистнули, другие заскулили, третьи издали какой-то странный визжащий звук, как будто кувыркались в воздухе».
Как и его друг и современник Исаак Бабель, Паустовский слагает поэзию войны: «Пули пели своими собственными нотами — одни слегка свистнули, другие заскулили, третьи издали какой-то странный визжащий звук, как будто кувыркались в воздухе».
Этот том в большей степени, чем два предыдущих, также приправлен философскими отступлениями о тонкой оболочке, отделяющей цивилизацию от «бездонного моря темной дикости», а также писательскими размышлениями о необходимости «силы и аскезы» для хорошей прозы и силы литературы, чтобы приблизить «нас к золотому веку наших мыслей, наших чувств и наших действий».
Ни одна рецензия не может отдать должное этой книге. На 800 страницах Паустовский — спутник читателя в путешествии, которое, кажется, охватывает всю жизнь, насквозь пронизанное оптимизмом автора. Объем может показаться устрашающим, а имена чуждыми тем, кто незнаком с русской литературой, но книга предлагает мощный литературный опыт, для которого нет такой высокой или пылкой рекомендации, как эта потрясающая книга сама по себе.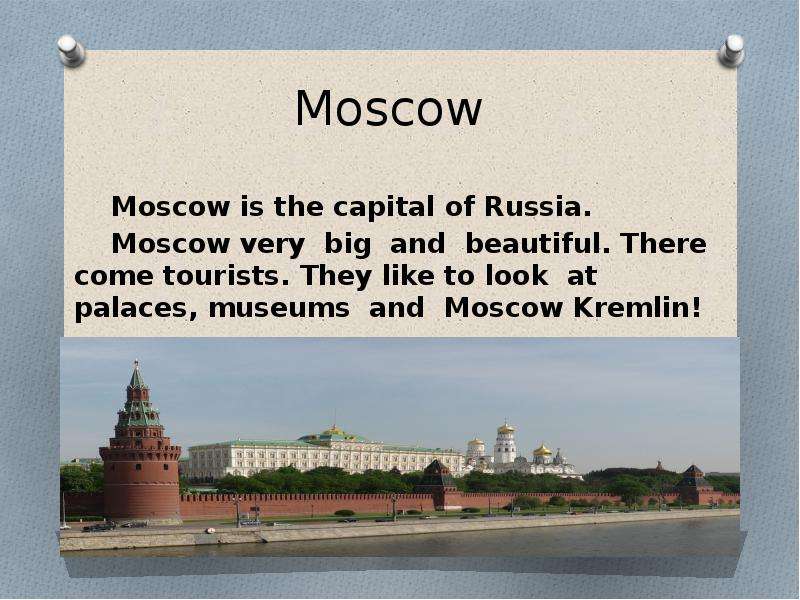
Эрик Вандерволл — писатель и музыкант. Его работы публиковались в Los Angeles Review of Books, Chicago Review of Books, Open Letters Review и других изданиях.
История одной жизни
Автор: Константин Паустовский, перевод с русского Дугласа Смита.
Издатель: New York Review of Books, 816 страниц, 24,95 доллара.
Еще от Star Tribune
Еще от Star Tribune
Еще от Variety
нация
26 мая
Канны закрывают субботу вручением Золотой пальмовой ветви
После 21 мировой премьеры, почти двух недель красных дорожек и сотен тысяч вспышек фотокамер 76-й Каннский кинофестиваль завершается в субботу вручением главного приза – Золотой пальмовой ветви.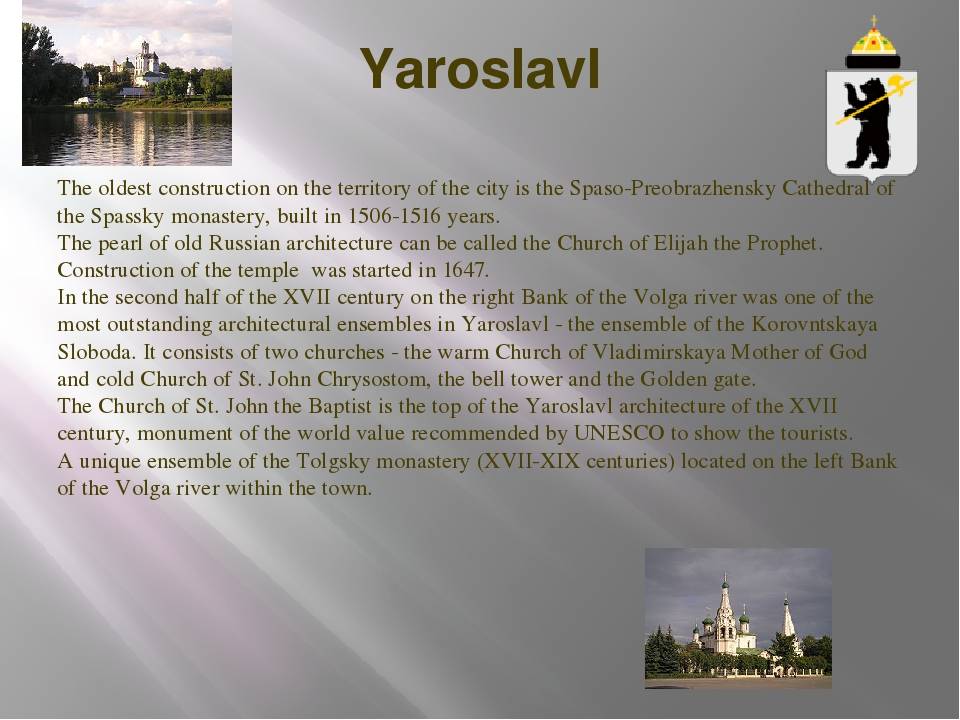
Владимир Набоков Искусство перевода Новая Республика 1941
В причудливом мире словесного переселения можно различить три степени зла. Первая и меньшая включает в себя очевидные ошибки из-за невежества или неверного знания. Это просто человеческая слабость, и поэтому простительна. Следующий шаг в ад совершает переводчик, намеренно пропускающий слова или отрывки, которые он не удосуживается понять или которые могут показаться неясными или непристойными смутно воображаемым читателям; он принимает пустой взгляд, который бросает на него словарь, без каких-либо колебаний; или подчиняет ученость строгости: он так же готов знать меньше, как и автор, так же, как и думать, что знает лучше. Третья, и наихудшая, степень низости достигается, когда шедевру придают такую форму, подло приукрашивают, чтобы он соответствовал представлениям и предрассудкам данной публики.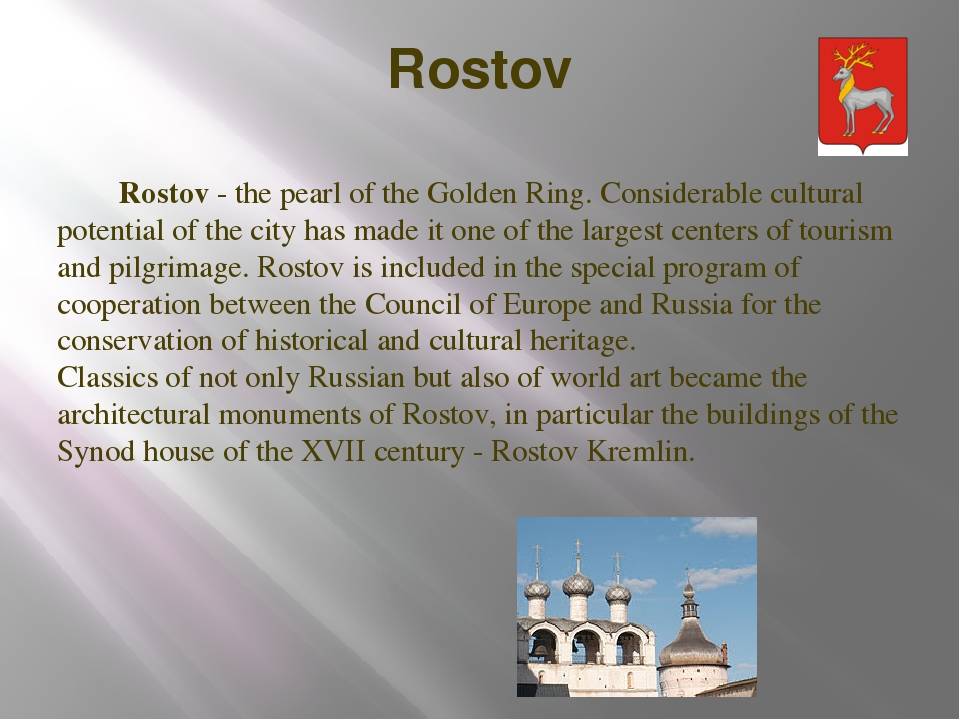 Это преступление, которое должно быть наказано акциями, как плагиаторы были наказаны во времена пряжек для обуви.
Это преступление, которое должно быть наказано акциями, как плагиаторы были наказаны во времена пряжек для обуви.
Ревунов, входящих в первую категорию, в свою очередь можно разделить на два класса. Недостаточное знание иностранного языка может превратить обычное выражение в какое-нибудь замечательное утверждение, которое настоящий автор никогда не собирался делать. «Bien ê tre general» становится мужественным утверждением, что «хорошо быть генералом»; которому, как известно, передал икру французский переводчик «Гамлета». Точно так же в немецком издании Чехова некоего учителя, как только он входит в класс, заставляют погрузиться в «свою газету», что побудило напыщенного рецензента отметить плачевное состояние народного обучения в досоветской Россия. Но настоящий Чехов имел в виду просто классный «журнал», который открывал учитель, чтобы проверить уроки, оценки и отсутствующих. И наоборот, такие невинные слова в английском романе, как «первая ночь» и «общественный дом», в русском переводе превратились в «брачную ночь» и «публичный дом».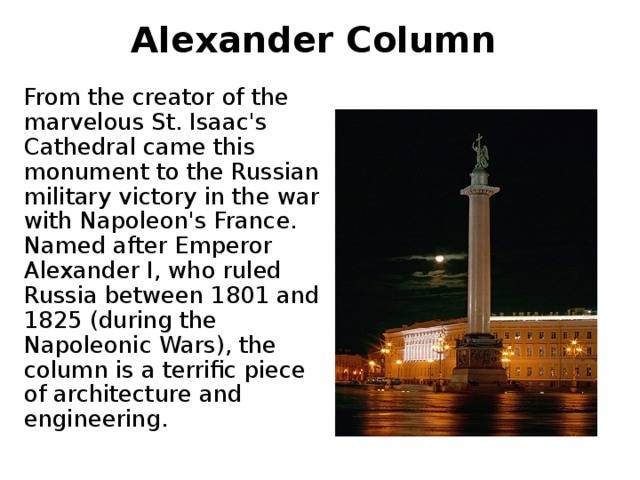 Этих простых примеров достаточно. Они смешны и неприятны, но в них нет пагубной цели; и чаще всего искаженное предложение все же имеет смысл в исходном контексте.
Этих простых примеров достаточно. Они смешны и неприятны, но в них нет пагубной цели; и чаще всего искаженное предложение все же имеет смысл в исходном контексте.
Другой класс грубых ошибок в первой категории включает в себя более изощренную ошибку, которая вызвана приступом лингвистического дальтонизма, внезапно ослепившим переводчика. То ли привлекаясь надуманным, когда очевидное было под рукой («Что эскимос предпочитает есть — мороженое или сало? Мороженое»), то ли бессознательно основывая свою передачу на каком-то ложном значении, которое повторные чтения запечатлели в его уме, ему удается неожиданным, а иногда и весьма блестящим образом извратить самое честное слово или самую ручную метафору. Я знал очень добросовестного поэта, который, борясь с переводом сильно вымученного текста, передал его так, что «болеет от бледного оттенка мысли» таким образом, что создается впечатление бледного лунного света. Он сделал это, приняв как должное, что «серп» относится к форме новой луны.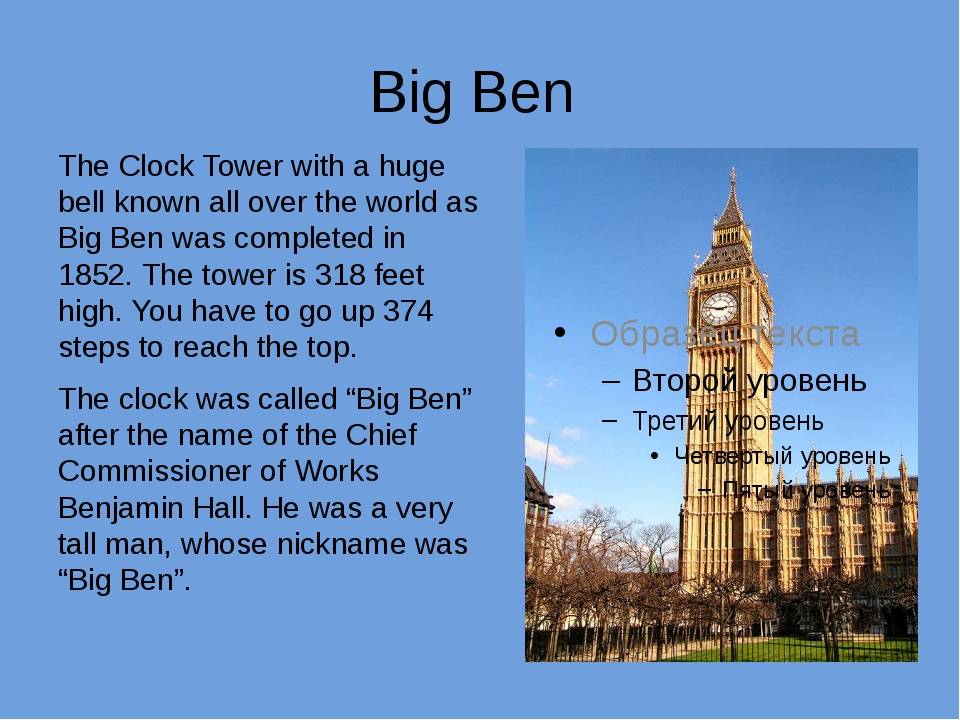 И национальное чувство юмора, движимое сходством русских слов, означающих «дуга» и «лук», побудило немецкого профессора перевести «изгиб берега» (в сказке Пушкина) на «луковица». Море.»
И национальное чувство юмора, движимое сходством русских слов, означающих «дуга» и «лук», побудило немецкого профессора перевести «изгиб берега» (в сказке Пушкина) на «луковица». Море.»
Второй, и гораздо более серьезный грех, заключающийся в пропуске сложных отрывков, все еще простителен, когда переводчик сам сбит с толку ими; но как презрен тот самодовольный человек, который, хотя и вполне понимает смысл, опасается, что это может задеть глупца или развратить дофина! Вместо того чтобы блаженно укрыться в объятиях великого писателя, он все беспокоится о маленьком читателе, играющем в углу с чем-то опасным или нечистым. Возможно, самый очаровательный пример викторианской скромности, который когда-либо встречался мне, был в раннем английском переводе «Анны Карениной». Вронский спросил Анну, что с ней. «Мне беременна » (курсив переводчика), — отвечала Анна, заставляя иностранного читателя недоумевать, что это за странная и ужасная восточная болезнь; все потому, что переводчик подумал, что «я беременна» может потрясти какую-нибудь чистую душу и что неплохо было бы оставить русский язык как есть.
Но маскировка и приглушение кажутся мелкими грехами по сравнению с грехами третьей категории; Ибо вот он появляется с важным видом и расстреливает свои украшенные драгоценностями манжеты, ловкий переводчик, который обустраивает будуар Шахерезады по своему вкусу и с профессиональной элегантностью пытается улучшить внешний вид своих жертв. Таким образом, в русских версиях Шекспира было правилом давать Офелии более богатые цветы, чем бедные сорняки, которые она находила. Русский перевод числа
Вот она пришла с фантастическими гирляндами
Из вороньих цветов, крапивы, маргариток и длинных пурпурных цветов
если перевести обратно на английский язык будет звучать так:
Вот она пришла с самыми прекрасными гирляндами
Из фиалок, гвоздик, розы, лилии.
Великолепие этой цветочной композиции говорит само за себя; между прочим, это сводило на нет отступления королевы, даровав ей благородство, которого ей так прискорбно недоставало, и отбросив либеральных пастухов; как кто-то мог собрать такую ботаническую коллекцию рядом с Helje или Avon — это другой вопрос.
Но таких вопросов торжественный русский читатель не задавал, во-первых, потому, что он не знал исходного текста , во-вторых, потому что ему было наплевать на ботанику, а в-третьих, потому что единственное, что его интересовало, Шекспир был тем, что немецкие комментаторы и местные радикалы открыли для себя на пути «вечных проблем». Так что никто не возражал, что случилось с собачками Гонерильи, когда линия
Поднос, Бланш и Милая, видите, они лают на меня
мрачно превратился в
Стая гончих лает мне по пятам.
Весь местный колорит, все осязаемые и незаменимые детали были проглочены этими гончими.
Но месть сладка, даже бессознательная месть. Величайшим русским рассказом, когда-либо написанным, является гоголевская «Шинель» (или «Накидка», или «Шалька», или «Нель»). Существенная его черта, та иррациональная часть, которая образует трагическую подоплеку бессмысленного в остальном анекдота, органически связана с особым стилем, в котором написана эта повесть: есть странные повторения одного и того же нелепого наречия, и эти повторения становятся как бы жуткими. заклинание; есть описания, которые кажутся достаточно невинными, пока не обнаружишь, что хаос подстерегает прямо за углом и что Гоголь вставил в то или иное безобидное предложение слово или сравнение, от которых отрывок взрывается диким зрелищем кошмарного фейерверка. Есть и та нащупывающая неуклюжесть, которая со стороны автора есть сознательная передача неотесанных жестов наших сновидений.
заклинание; есть описания, которые кажутся достаточно невинными, пока не обнаружишь, что хаос подстерегает прямо за углом и что Гоголь вставил в то или иное безобидное предложение слово или сравнение, от которых отрывок взрывается диким зрелищем кошмарного фейерверка. Есть и та нащупывающая неуклюжесть, которая со стороны автора есть сознательная передача неотесанных жестов наших сновидений.
Ничего из этого не осталось в чопорной, задорной и очень будничной английской версии (см. — и больше никогда — «Мантию» в переводе Клода Филда). Следующий пример оставляет у меня впечатление, что я свидетель убийства и ничего не могу сделать, чтобы предотвратить его:
Гоголь: …его [мелкого чиновника] квартира в третьем или четвертом этаже… показывая несколько модных безделушек , таких как лампа например — безделушек купленных многими жертвами. …
Поле: …приобретены некоторые претенциозные предметы мебели и т.д. …
Фальсификация крупных или второстепенных иностранных шедевров может вовлечь в фарс невиновную третью сторону. Совсем недавно известный русский композитор попросил меня перевести на английский язык русское стихотворение, которое он сорок лет назад положил на музыку. Он указал, что английский перевод должен точно следовать самому звучанию текста, который, к сожалению, был версией К. Бальмонта «Колокола» Эдгара Аллана По. Как выглядят многочисленные переводы Бальмонта, можно легко понять, если я скажу, что его собственная работа неизменно обнаруживала почти патологическую неспособность написать одну-единственную мелодичную строчку. Имея в своем распоряжении достаточное количество заезженных рифмовок и подхватывая на ходу любую автостопную метафору, которую ему случалось встречать, он превращал то, что По приложил немало усилий, чтобы сочинить, в нечто такое, что любой русский рифмовщик мог бы набросать в мгновение ока. уведомление. Перевернув его на английский, я занимался исключительно поиском английских слов, которые звучали бы как русские. Так вот, если кто-нибудь когда-нибудь наткнется на мою английскую версию этой русской версии, он может по глупости перевести ее на русский язык, так что стихотворение без По будет бальмонтироваться до тех пор, пока, возможно, «Колокола» не станут «Молчанием».
Совсем недавно известный русский композитор попросил меня перевести на английский язык русское стихотворение, которое он сорок лет назад положил на музыку. Он указал, что английский перевод должен точно следовать самому звучанию текста, который, к сожалению, был версией К. Бальмонта «Колокола» Эдгара Аллана По. Как выглядят многочисленные переводы Бальмонта, можно легко понять, если я скажу, что его собственная работа неизменно обнаруживала почти патологическую неспособность написать одну-единственную мелодичную строчку. Имея в своем распоряжении достаточное количество заезженных рифмовок и подхватывая на ходу любую автостопную метафору, которую ему случалось встречать, он превращал то, что По приложил немало усилий, чтобы сочинить, в нечто такое, что любой русский рифмовщик мог бы набросать в мгновение ока. уведомление. Перевернув его на английский, я занимался исключительно поиском английских слов, которые звучали бы как русские. Так вот, если кто-нибудь когда-нибудь наткнется на мою английскую версию этой русской версии, он может по глупости перевести ее на русский язык, так что стихотворение без По будет бальмонтироваться до тех пор, пока, возможно, «Колокола» не станут «Молчанием».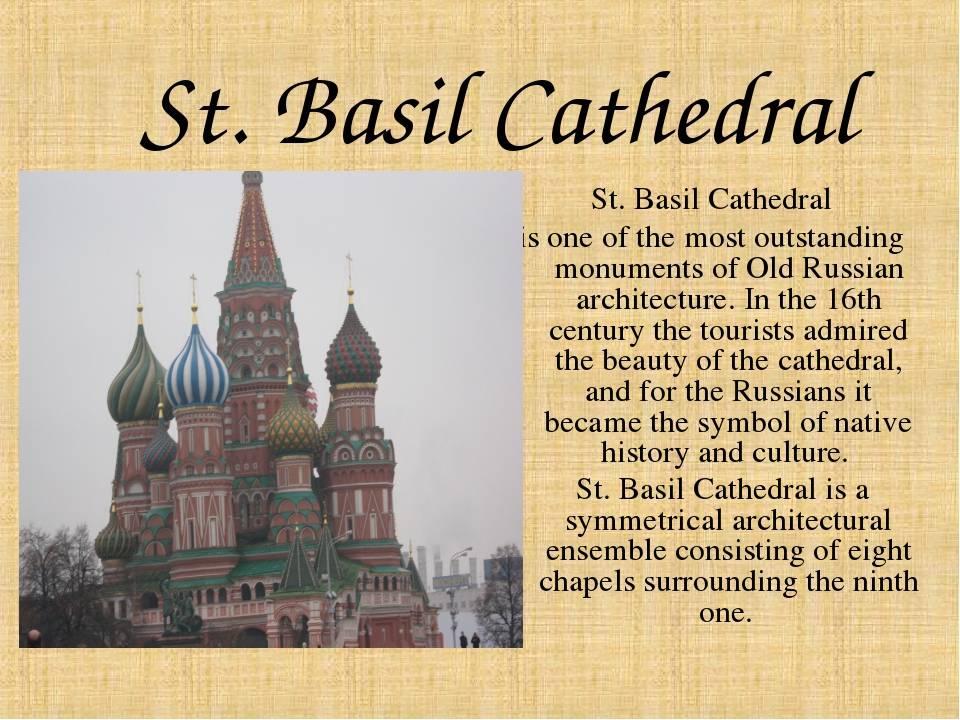 Что-то еще более гротескное произошло с изысканно-мечтательным «Приглашением в путешествие» Бодлера ( «Mon amie, ma soeur, connais-tu la douceur» ). чем Бальмонт. Это началось так:
Что-то еще более гротескное произошло с изысканно-мечтательным «Приглашением в путешествие» Бодлера ( «Mon amie, ma soeur, connais-tu la douceur» ). чем Бальмонт. Это началось так:
Моя милая маленькая невеста.
Поехали кататься;
Вскоре он породил залихватский мотив и был принят всеми шарманщиками России. Мне нравится представлять себе будущего французского переводчика русских народных песен, перефранцизующего их в:
Viens, mon p’tit,
A Nijni
и так далее, ad malinfinitum.
За исключением откровенных обманщиков, кротких дебилов и бессильных поэтов, существуют, грубо говоря, три типа переводчиков — и это не имеет ничего общего с моими тремя категориями зла; или, скорее, любой из трех типов может ошибаться подобным образом. Вот эти трое: ученый, стремящийся заставить мир оценить работы неизвестного гения так же, как он сам; благонамеренный взлом; и профессиональный писатель, отдыхающий в компании иностранного собрата. Ученый будет, я надеюсь, точен и педантичен: сноски — та же страница, что и текст, и не спрятанная в конце тома, никогда не может быть слишком обильной и подробной. Трудолюбивая дама, переводящая в одиннадцатый час одиннадцатый том чьего-то собрания сочинений, будет, боюсь, менее точна и менее педантична; но дело не в том, что ученый совершает меньше ошибок, чем труженик; дело в том, что, как правило, и он, и она безнадежно лишены всякого подобия творческого гения. Ни учеба, ни усердие не заменят воображения и стиля.
Ученый будет, я надеюсь, точен и педантичен: сноски — та же страница, что и текст, и не спрятанная в конце тома, никогда не может быть слишком обильной и подробной. Трудолюбивая дама, переводящая в одиннадцатый час одиннадцатый том чьего-то собрания сочинений, будет, боюсь, менее точна и менее педантична; но дело не в том, что ученый совершает меньше ошибок, чем труженик; дело в том, что, как правило, и он, и она безнадежно лишены всякого подобия творческого гения. Ни учеба, ни усердие не заменят воображения и стиля.
Теперь приходит настоящий поэт, обладающий двумя последними достоинствами и находящий отдых в переводе отрывка из Лермонтова или Верлена между написанием собственных стихов. Либо он не знает языка оригинала и спокойно полагается на так называемый «буквальный» перевод, сделанный для него куда менее блестящим, но несколько более ученым человеком, либо, зная язык, ему не хватает научной точности и профессионального мастерства. опыт переводчика. Главный недостаток, однако, в данном случае заключается в том, что чем больше его индивидуальный талант, тем больше он будет склонен заглушить иностранный шедевр сверкающей рябью своего личного стиля.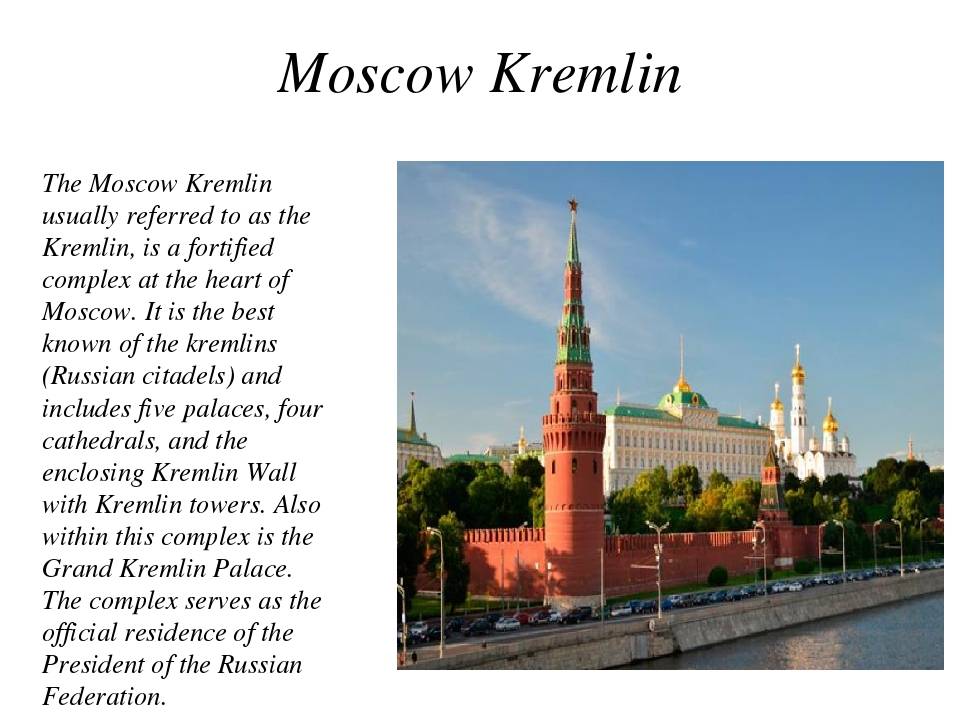 Вместо того, чтобы наряжаться настоящим автором, он наряжает автора в самого себя.
Вместо того, чтобы наряжаться настоящим автором, он наряжает автора в самого себя.
Теперь мы можем вывести требования, которыми должен обладать переводчик, чтобы дать идеальную версию иностранного шедевра. Во-первых, он должен обладать таким же талантом или, по крайней мере, таким же талантом, как и выбранный им автор. В этом, хотя и только в этом отношении, Бодлер и По или Жуковский и Шиллер были идеальными товарищами по играм. Во-вторых, он должен досконально знать две нации и два языка и быть в совершенстве знакомым со всеми подробностями, касающимися манеры и методов его автора; также с социальным фоном слов, их модой, историей и ассоциациями с периодом. Это приводит к третьему пункту: обладая гениальностью и знанием, он должен обладать даром мимикрии и быть в состоянии играть, так сказать, роль настоящего автора, перевоплощая его приемы поведения и речи, его манеры и его ум, с предельная степень правдоподобия.
В последнее время я пробовал переводить нескольких русских поэтов, либо сильно изуродованных прежними попытками, либо вообще никогда не переводившихся. Имеющийся в моем распоряжении английский конечно тоньше моего русского; разница, по сути, та же, что существует между двухквартирной виллой и наследственным поместьем, между застенчивым комфортом и привычной роскошью. Поэтому я не удовлетворен достигнутыми результатами, но мои исследования выявили несколько правил, которым могли бы с пользой следовать другие писатели.
Имеющийся в моем распоряжении английский конечно тоньше моего русского; разница, по сути, та же, что существует между двухквартирной виллой и наследственным поместьем, между застенчивым комфортом и привычной роскошью. Поэтому я не удовлетворен достигнутыми результатами, но мои исследования выявили несколько правил, которым могли бы с пользой следовать другие писатели.
Я столкнулся, например, со следующей начальной строкой одного из самых удивительных стихотворений Пушкина:
Ях пом-новый жевал-не-яй мг-не-напрасно-яй
Я передал слоги по ближайшим английские звуки, которые я смог найти; их мимическая маскировка делает их довольно уродливыми; но не бери в голову; «жуть» и «напрасно» фонетически связаны с другими русскими словами, обозначающими красивые и важные вещи, а мелодия строки с пухлым, золотисто-спелым «жевал-не-яй» прямо посередине и «м-с» ” и “n”, уравновешивающие друг друга с обеих сторон, для русского уха наиболее волнующие и успокаивающие — парадоксальное сочетание, понятное любому художнику.
Теперь, если вы возьмете словарь и посмотрите эти четыре слова, вы получите следующее глупое, плоское и знакомое утверждение: «Я помню чудесный момент». Что делать с этой птицей, которую вы подстрелили только для того, чтобы обнаружить, что это не райская птица, а сбежавший попугай, который все еще выкрикивает свои идиотские сообщения, хлопая крыльями по земле? Ведь никакое воображение не сможет убедить английского читателя в том, что «Я помню чудесное мгновение» — это идеальное начало совершенного стихотворения. Первое, что я обнаружил, это то, что выражение «буквальный перевод» более или менее бессмыслица. «Yah pom-new» — это более глубокое и плавное погружение в прошлое, чем «Я помню», которое падает на брюхо, как неопытный ныряльщик; В слове «жевал-не-яй» есть и прелестное русское «чудовище», и шепотное «слушай», и дательный падеж «солнечный луч», и много других хороших соотношений между русскими словами. Оно принадлежит фонетически и ментально к определенному ряду слов, и этот русский ряд не соответствует английскому ряду, в котором встречается «я помню».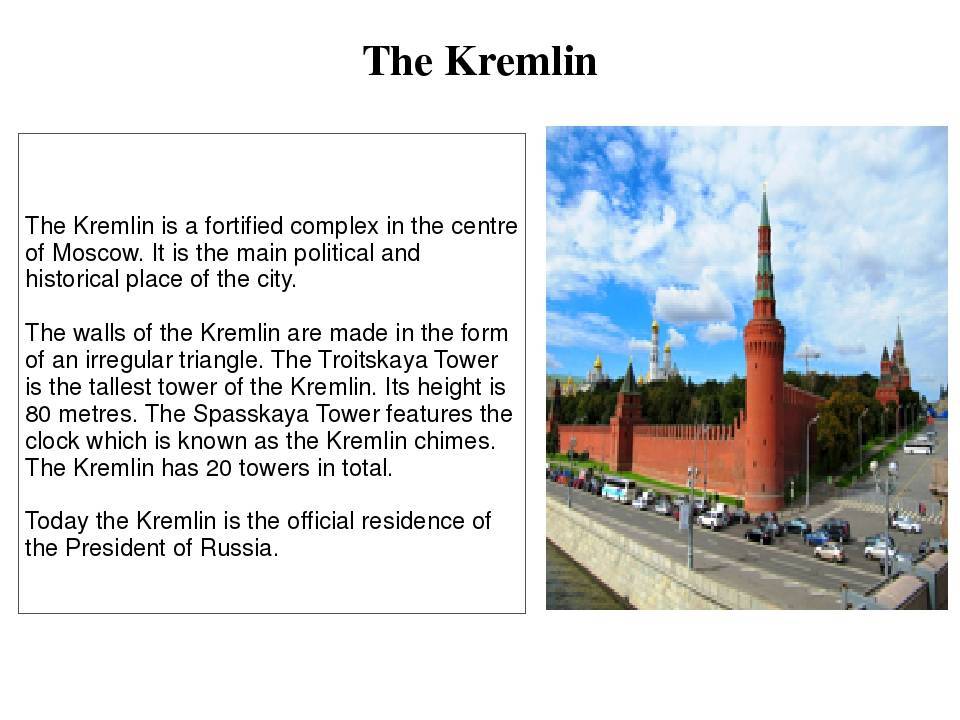 И наоборот, слово «помню», хотя оно и противоречит соответствующему ряду «пом-новый», связано с собственным английским рядом всякий раз, когда его употребляют настоящие поэты. И центральное слово в произведении Хаусмана «Что это за синие вспомнил холма? становится по-русски «вспом-неев-ше-есях», ужасное лохмотье, сплошь горбы да рога, которое не может слиться ни в какую внутреннюю связь с «голубым», как это гладко получается в английском языке, потому что русское значение синевы принадлежит к другой серии, чем русское «помнить».
И наоборот, слово «помню», хотя оно и противоречит соответствующему ряду «пом-новый», связано с собственным английским рядом всякий раз, когда его употребляют настоящие поэты. И центральное слово в произведении Хаусмана «Что это за синие вспомнил холма? становится по-русски «вспом-неев-ше-есях», ужасное лохмотье, сплошь горбы да рога, которое не может слиться ни в какую внутреннюю связь с «голубым», как это гладко получается в английском языке, потому что русское значение синевы принадлежит к другой серии, чем русское «помнить».
Эта взаимосвязь слов и несоответствие словесных рядов в разных языках наводит на мысль еще о другом правиле, а именно, что три главных слова строки вытягивают друг друга и прибавляют то, чего ни одно из них не имело бы ни порознь, ни в каком-либо другое сочетание. Что делает возможным этот обмен тайными ценностями, так это не только простое соприкосновение между словами, но их точное положение как по отношению к ритму строки, так и друг к другу.